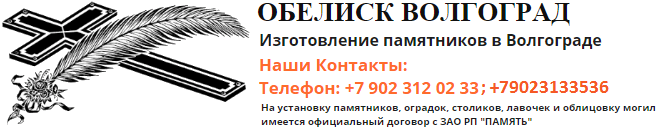ПРОЛОГ
30 октября 1972 года в 16.29 одна пригородная электричка подходила к станции Д., другая — тоже в 16.29 отправлялась с нее. По причинам, навсегда оставшимся неизвестными, между этими двумя составами оказалась девочка. Завихрением воздуха ее швырнуло о рельсы затылком.
Уже в 16.52 она была доставлена «скорой помощью» в больницу Эрисмана. Однако сделать что-либо оказалось невозможно: врачи констатировали мгновенную смерть.
Эта десятилетняя девочка — моя дочка.
…В то невообразимо далекое теперь уже время, которое сегодня представляется мне временем какого-то «космического одиночества», моим единственным другом, молчаливым, но безотказным, стал дневник. Он принял на себя первый шквал потери. А потом — на долгие годы эта школьная тетрадь легла в укромную глубину книжного шкафа: надо было как-то жить дальше. А еще долгие годы спустя… я приняла Святое Крещение. И лишь через два года после этого набралась мужества снова взять в руки ту тетрадь… А спустя какое-то время… попросила прочесть ее недавно обретенного духовника, отца К. Он прочел. И возложил на меня своего рода послушание: я должна была сделать свой опыт изживания горя доступным другим. «Но это же антиопыт, — возразила я по некотором раздумьи, — это опыт человека, надеявшегося только на свои силы, на других людей, не знавшего, что «без Него творити не можете ничесоже»». «А вы напишите своего рода постскриптум, взгляд из сегодня», — ответил он.
…Когда я перепечатывала (и чего же мне это стоило!..) свой дневник тридцатилетней давности, так хотелось иногда что-то подправить (например, написание слов «Бог», «Боже» с маленькой буквы) или убрать: так иногда было стыдно — за то, какое тяжкое и неудобоносимое бремя представляла я тогда для окружающих, за свою неблагодарность людям, наконец, за упорное нежелание впрямую сформулировать свою вину, не прикрывая ее «словесами лукавствия». И, однако, я оставила в неприкосновенности всё…
Написать «постскриптум» оказалось еще труднее, хотя и по другим причинам. Но я помню, как жадно выискивала по свежим следам трагедии в любом попадавшемся мне под руку чтении хоть что-то, что дало бы хоть какой-то ответ на мучившие меня вопросы, вопросы, вопросы, а особенно такие: куда девается после смерти человека все то, чем жила его душа, сердце, разум? неужели в никуда? и какой тогда во всем этом смысл?.. И я искренне надеялась, что хотя бы кто-то, мучающийся подобными же вопросами, найдет здесь для себя утешительный ответ.
В канун Лазаревой субботы (далекого уже 2002-го), в последний день Великого поста, я получила в типографии небольшой тираж своей книги-послушания. Вике (так зовут мою Девочку) книжечка понравилась бы, я в этом уверена: обложку молча, не сказав по этому поводу ни слова, оформил никогда не виденный ею брат; каждый цветочек из похожих на праздничный салют букетиков с уже пожелтевшего листка ватмана он обвел «кисточкой» компьютерного ретушера, а с ее фотографией — крохотным, поблекшим любительским снимком, сделанным когда-то в Планерском, — сотворил сущее чудо, могущее быть оцененным лишь при сравнении с оригиналом…
Из типографии я привезла тираж прямо в собор. Отец К. отслужил молебен, и книга зажила своей жизнью, исполняя, как могла, свое назначение…
Однако еще до выхода книги из печати, еще прежде, чем, как говорили встарь, «просохли чернила», я начала понимать, что труд мой не вполне достиг своей цели: «Постскриптум» совершенно неожиданно для меня самой обрел смысл свидетельства; но я достаточно трезво оцениваю меру отпущенного мне Господом дара слова и веры, чтобы надеяться описанием своего пути к Богу явить подлинный источник утешения. И, хотя этот первый мой опыт публичной исповеди потребовал недюжинного напряжения, — уже в ту самую Лазареву субботу, когда получила из печати книгу, я снова села за дневник…
И вдруг, одна за другой, стали попадаться мне книги, где так или иначе затрагивается тема смерти и посмертной жизни души… Но никакого «вдруг» у Господа не бывает. Они не попадались мне тогда, когда я только еще начинала переосмысливать, уже внутри церковной ограды, случившееся с моей Девочкой и со мной. И это тоже, по всей видимости, не было случайным: тогда, на том этапе, от меня требовалось прожить заново свой личный и неповторимый, как у каждого из нас, опыт. Теперь же мне давалась возможность, выйдя за пределы своей личности, поверить его опытом скорбей и утешений сотен поколений, запечатленным на страницах Священного Писания и Предания, святоотеческих и современных книг, духовных и художественных, — и попытаться донести его до тех, кто нуждается в нем «по жизненным показаниям». Не так уж много, я думаю, охотников писать (и, увы, читать) о смерти среди нас, простых мирян, — не богословов, но имевших случай и причины заинтересоваться ею вплотную…
Конечно, это уже был совсем иной дневник, чем тот, давний: тот не предполагал читателя, о нем никто не знал, и отец К. стал первым его читателем; этот же, будучи продолжением послушания, — предполагал по определению. Но, как и тогда, моя реальная, повседневная жизнь на страницы дневника не проникала. Остались за бортом и все «взлеты» и «падения» мучительного периода моего воцерковления. Происходило нечто гораздо более важное, то, что точнее всего было бы назвать допереосмыслением. Путь к «ласковому успокоению» (цитируя мою сестру по несчастью Людмилу Зотову, автора книги «Я тоже потеряла ребенка», на которую я многократно дальше ссылаюсь) оказался гораздо более многосложен и многоступенчат, чем представлялось, когда я заканчивала свою первую книгу.
Скажу под конец, что оба моих дневника в 2005 году были изданы под одной обложкой двумя добрыми самаритянами, иначе их и не назовешь, — Вадимом и Галиной. Многая и благая им лета!
«Многое на земле от нас скрыто, — писал некогда Ф. М. Достоевский, — но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. … Бог взял семена из миров иных и посеял их на земле, и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным, если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе».
Изо всего прочитанного, увиденного и услышанного за тот год между двумя Лазаревыми субботами я поняла, что любые попытки примириться со смертью близких, «оправдать и принять ее» (монахиня Мария) будут бесплодны до тех пор, пока не ощутишь «связь нашу с миром иным» как абсолютно, а не условно, живую и не поймешь во всей ее поразительной глубине мысль сербского богослова Иустина Поповича: «Осмыслить смерть значит осмыслить жизнь». «В этой чеканной формуле, — написала я в радостном потрясении, прочтя эти слова, — сошлось для меня всё. Душа, сердце, разум впитали ее, как губка. И смерть, как «лишний винтик», которому никак не находилось места в радостной картине Творения, послушно встроилась в Жизнь».
7 августа 2008 года
ПРОЩАЙ… И ЗДРАВСТВУЙ!..
1973-1974
Раздирайте сердца ваши,
а не одежды ваши,
и обратитесь к Господу Богу вашему;
ибо Он благ и милосерд,
долготерпелив и многомилостив
и сожалеет о бедствии.
Иоиль 2, 13
20. 02. 73
Вот уже ровно месяц живу я здесь, на Васильевском острове, — живу совсем одна, потому что осиротела. Я — осиротевшая мама. Глубину этого сиротства не измерить, хотя, как бы велика она ни была, наверное, она все же меньше, чем несостоявшееся Викино сиротство. В этом — горькое и странное утешение. Хотя если бы мне предоставили выбирать — уйти отсюда мне или ей, ответ мог бы быть только один: мне. Грустная диалектика.
Смотрела «Солярис» и думала: окажись я там — материализовался ли бы Викин дух? Говоря точнее — виновна я перед нею или нет?
А. как-то сказала мне: «Мы всегда виноваты перед ушедшими». Да, это так. Она всегда считала меня идеальной матерью, но я-то знаю, что это не так. Но я была права и тогда, когда говорила: «Я была Вике хорошей матерью». Не для себя — для нее. Это могу понять и знать только я одна. Долго я еще буду находить pro et contra своей вины перед этой девочкой. Я знаю: ближе и любимее меня у нее никого не было. Но вот она стала по-настоящему нужна мне совсем незадолго до своего внезапного ухода.
Я любила гвоздики. Теперь их никогда не будет у меня в доме. Этого символа трагически оборвавшейся, незавершенной любви. Поймет ли кто-нибудь, что это такое — незавершенная любовь к своему ребенку? Наверное, если быть честной, это от комплекса вины. Я виновата перед нею не в большей степени, даже, наверное, в гораздо меньшей, чем многие другие матери, но, на их счастье, им не дано ощутить свою вину, ибо дети их вырастают и уходят отсюда тогда, когда этому положено свершаться, то есть после своих родителей.
Милая моя девочка, как хорошо, что так дружно прошло наше последнее утро — то единственное, первое и последнее в твоей школьной жизни, когда я специально осталась, чтобы самой собрать тебя в школу. В последнюю неделю у нас с тобой был один не очень хороший вечер, но я сгладила его, взяв тебя на ночь к себе в постель. Не зная еще тогда, что в последний раз буду ощущать рядом твое горячее, худенькое тельце. Тельце лягушонка, жеребенка… И когда в свой последний час ты шла одна в свой последний путь — я знаю, ты не думала обо мне плохо. У тебя была перед тем тяжелая неделя — плохо с ребятами, плохо с бабушкой, но со мной все было хорошо. Ведь правда, Витулик?
Ты помнишь, как нравился тебе фильм «Он пошел один»? Ты тоже пошла одна, бедная моя Девочка, ты была слишком умной для своих ребят, а люди вообще этого не любят. И если можно ставить это в вину, то я, без сомнения, виновата в том, что развила твой интеллект до такой степени.
Ты не была не от мира сего, но жизнь духа всегда преобладала в тебе над прочими человеческими началами. А духовным людям жить всегда тяжело. И если можно искать в этом утешение (и для тебя, и для меня) — то будем утешаться тем, что жизнь твоя не могла бы быть легкой. Ты не была совсем лишена кожи, но и толстокожей тебя ни в коей мере не назовешь.
Здесь, в этой комнате, ты везде. И, наверное, именно поэтому я не люблю уходить отсюда — уходить от тебя. Ты со мной здесь, а я с тобой. Там, на Южном, — твоя вещная оболочка, в твоей любимой пионерской форме, к которой ты еще не успела охладеть, в твоей любимой красной пилотке — но там только твоя оболочка, не более. А здесь, со мной, — вся твоя маленькая, вернее, короткая, внутренняя жизнь. И со мною она пребудет — пока буду я.
Никто больше не назовет меня мамой. Это монопольное право всегда останется за тобой. Я была, есть и останусь Викиной мамой. Я буду верна твоей памяти. И, что бы кто бы ни говорил, — если для кого-то (кого никогда не будет) я стану лучшей мамой, чем была тебе, моя Девочка, это будет обидно. Нас будет только двое. Ни в ком ты не повторишься, и я не хочу искать этого повторения. Это было бы сделано только для меня самой, не для тебя, а то, что мне еще суждено сделать в своей жизни, мы будем делать вдвоем. Не для меня — для тебя.
Теперь я знаю, что буду жить, хотя по-прежнему этого не хочу. Какой смысл я обрету в этой своей новой жизни — я еще не знаю, но знаю, что обрету.
Знаю и то, что воссоединюсь с тобой именно тогда, когда вновь захочется жить. Это и будет искуплением вины. О какой вине я говорю — я еще продумаю. Не найду оправдание себе, а постараюсь быть честной — перед тобой и перед собой. Надо набраться мужества сформулировать все точно и честно. Может быть, сделаю это нескоро, но сделаю. Для этого надо вернуться к жизни, а пока я еще не слишком уверенно нащупываю к ней путь. Чистым разумом — а надо делать это с помощью чувства. А способность чувствовать что-нибудь иное, кроме утраты, потерянности и бесконечного одиночества, я еще не обрела.
Человек, чтобы жить, должен кого-то или что-то любить. Тебя у меня больше нет, и, что бы я себе ни говорила, хотя любовь моя к тебе теперь более сильна и глубока, чем при жизни твоей, она по необходимости платонична. А надо любить — солнце ли, море, снег, зелень, книги, мужчину, — но не могу пока.
Сейчас ты у меня в сердце, раньше же была где-то глубоко внутри меня, но не в сердце. Теперь ты заняла то место, которое принадлежит тебе по праву, никого там больше нет. Если быть точной, ты угнездилась там еще при жизни, но совсем незадолго до ее конца. Но, странное дело, меня преследует мысль, высказанная человеком, которого ты не знала и никогда уже не узнаешь: «Пока человек что-то или кого-то очень сильно любит — с ним ничего не может случиться». Я долго и сильно любила, и эта любовь оттесняла тебя, разлюбив же и освободив место в сердце для тебя — тотчас же тебя лишилась. Диалектика, диалектика на каждом шагу…
Все, что я здесь говорю, — странно, непонятно, страшно, может быть, даже, но мне от этого легче. Это разговор с тобой, которого не могло быть, пока ты была здесь, но это разговор по душам.
В 19 лет я писала: «Как я хочу успокоиться, ни о ком и ни о чем не думать. А я все думаю, думаю и думаю. И всегда буду думать. Так уж случилось».
25. 02.73
Только вчера, Витулик, собралась я, наконец, сделать то, что мы с тобой собирались сделать в «следующую субботу», да так и не успели. Я купила двух барбусов и одну данио-рерио. Данио очень скучала одна, и за это время у нее, видно, испортился характер, поэтому к своей соплеменнице она отнеслась не очень дружелюбно, вернее, с каким-то равнодушным любопытством. А вот из барбусов получилась отличная парочка — мельтешат, серебристые малыши, хлопочут…
Странно, но факт, от которого никуда не денешься, — погибли из всех цветов именно те два цветка, которые ты больше всех любила, а из рыб — именно барбус, всегда привлекавший к себе твое внимание. (Помнишь, как я изображала барбуса и чуть однажды не сделала это у всех на виду в том лесочке? Сколько это доставило тебе удовольствия, моя Девочка…) Того барбуса уже нет… как и тебя. Есть новые — не тот, так другие, а тебя уже не вернуть никакими силами. Это было однажды — во сне, и вновь я тебя потеряла… Тот сон…
Со временем обязательно куплю большой аквариум и восстановлю всех рыб, что жили в том, другом аквариуме. Тех рыб, что изображены на твоем рисунке, который ты успела закончить в свой последний день, но не успела выжечь. Это сделала за тебя я, 1/XI-72, в день перед Южным…
1.03.73
Первый весенний день без Вики. Как тяжело и непереносимо быть без тебя, милая Девочка… Знаешь, месяца два назад было, как ни странно, легче. Тогда осознавалось одно — тебя нет. Но чем дальше, тем глубже ты входишь в меня, и тем невозвратимее становится утрата — если вообще можно употреблять здесь сравнительную степень. Наверное, можно…
Выдран с мясом, с кровью огромный кусок жизни — как он огромен, становится ясно только теперь, когда вспоминаешь давно забытые подробности… А сколько их, этих подробностей, в десяти годах — бесконечно мало для тебя, Девочка моя, ибо что такое десять лет жизни для тебя, и бесконечно много для меня.
Как это все-таки могло случиться? Если это наказание мне — то почему наказан ребенок? Она-то перед кем провинилась?
Мне сказали недавно: «Если бог добр и допускает то, что происходит, — то зачем он? Если он зол — он и подавно не нужен. Если же он непознаваем — то я могу обойтись и без него».
Вспышка духовности, тяги к познанию тайного тайных, охватившая меня с месяц назад, угасла… Она осветила на миг мой одинокий путь, но не утешила. Да и что все это могло мне дать? Обрести бога разумом не дано. Тем более, если он добр, или зол, или непознаваем…
Мне хотелось найти, наверное, скрытые рычаги, управляющие этим миром. Все, все подробности, все мелкие и большие шаги, мои и Викины, все мелкие случайности, слившиеся в одно неотвратимое, необратимое, невозвратимое, — все это заставляет предполагать какое-то объективное управление событиями. Но и это ничего не объясняет и ничем не утешает, а лишь подчеркивает бессмысленность и несправедливость этих законов, пусть они трижды объективны…
Зачем нужна была этой объективности Вика? Маленький, безгрешный субъект. Зачем ей нужно было оставить здесь именно меня, нисколько к жизни не привязанную, более того, не чающую ничего другого, кроме как распроститься с ней благопристойным для окружающих образом?
На, бери ее, мою раздавленную, исковерканную жизнь! Так нет же, не возьмешь, я знаю. Ты подождешь того времени, когда она мне понадобится. Знаем мы эти штучки.
В феврале нет 30-го, оно будет завтра — и 30-е, и 2-е сразу. Двойной юбилей… Я поеду к тебе, Девочка, свершу этот жестокий обряд, но здесь, в нашей с тобой комнате, ты ко мне в тысячу раз ближе, чем там, у этого холмика, под которым, на глубине шести футов, лежит замурованное в кембрийской глине твое маленькое тельце.
Почему щеки твои, когда я в последний раз гладила тебя по лицу, были теплыми?.. Твое спокойное личико спящего ребенка, на которое едва заметно легла тень страдания, не осознанного тобой… Эта инерция твоего маленького мозга, сработавшего в последний раз — без обратной связи… Какое счастье, что ты ничего не успела понять! Хоть это-то я точно знаю, и слава богу. Но я никогда не узнаю, о чем ты думала в последние минуты перед тем, как собраться перейти железную дорогу… Зачем зашла так далеко… То ли одиноко было очень, то ли задумалась, то ли не в первый раз доходила до 10-го километра, а потом возвращалась домой на автобусе? Ничего этого я никогда не узнаю. Никогда.
«Так и буду жить — один меж прочих, и передо мною на года вечное круженье этих строчек и глухонемое «никогда»»… Сколько раз я вспоминала в прежней своей жизни эти слова, и вот теперь они наполнились единственно возможным смыслом, смыслом, который я никогда более не осмелюсь отнести к иным, суетным и преходящим чувствам.
3. 03.73
О ЧЕМ ПЛАКАЛА СТАРАЯ ИДА
Тихо сеял дождь, так тихо, что капли, ударяясь о крышу, о стекла, о скамейку под окном, на которой любила сидеть старая Ида, лишь едва слышно шелестели.
Часы показывали без пятнадцати шесть. Все кругом спало — даже мыши под крышей. «Ну как, идем?». На меня глядели два блестящих со сна коричневых глаза. «Конечно, идем. Вставай, вставай, штанишки надевай!» — «Подъем, подъем, кто спит, того убьем!» — подхватила Вика и спрыгнула с кровати. Ах, как сладко было бы завалиться обратно в теплую постель и снова заснуть под тихое бормотание дождя!..
Но уговор есть уговор. Сколько мы собирались пойти в лес, когда все еще спят, и бессовестно просыпали! Ну, ничего, мы еще сто раз успеем встать раньше всех, утешались мы. Но отпуск подходил к концу, а наши благие намерения оставались намерениями.
Молоко было холодное, сейчас бы чайку горяченького, но пока чайник вскипит на плитке… Да и потом, это значило бы лишить Вику главной прелести нашего долгожданного похода — именно встать в шесть утра и выпить именно кружку молока с ломтем черного хлеба!
Мы надели свитера, брюки, резиновые сапоги (у обеих они протекали) и пластикатовые плащи и вышли в путь. В кармане Викиной куртки лежал маленький складной ножик, в моем — два полиэтиленовых мешочка. Корзинку мы с собой не взяли, надеясь, как всегда, обмануть грибы. Если будет куда их класть — их не будет, а если они, как любила говорить Вика, «нападут» на нас, в ход пойдут плащ, Викин беретик, куртка (однажды даже в дело пошли шаровары — маслята напали).
Дождик был совсем-совсем маленький, почти незаметный, псы не лаяли — кому охота вылезать в такую рань? — только возле дома у речки, как всегда, залаял глупый коричневый щенок.
Песчаную дорогу разгладило, утоптало дождем, шагать было легко, и расположение духа у нас было расчудесное. «Кого ты любишь бо-о-льше, бо-о-льше, бо-о-льше всех на свете?» — говорила Вика. «Жабу», — отвечала я. «Неправда!» — кричала Вика, хотя, кажется, жаб она любила немногим меньше, чем меня. «Ну конечно, тебя, кого же еще, глупый ты мой ребенок!». Это была старая наша игра.
Вот и дом на отшибе. Здесь всегда носятся два неуклюжих пса, валяются на земле куклы без голов, одинокие галошики, сандалики, лопатки, совки, а у крыльца сидят прямо на земле два белоголовых мальчика, а на крыльце сидит хозяин, а если не сидит, то пилит, колет, строгает… Завидев нас, говорит: «Здравствуйт-те!» и потом еще долго смотрит вслед, до тех пор, пока мы не скроемся за поворотом.
А сегодня дом спал, двери были заперты, хотя было уже почти семь. Наверное, это было воскресенье.
«Интересно, есть ли там Кама?» — гадала Вика. Поле, через которое лежал путь в лес, в середине было немного выпуклое, и из начала его не было видно конца его и того, что там делается.
Дошли до пугала. Оно было мокрое, жалкое, обвисшее, не стучало (ветра не было), не блестело (солнца не было). Да и пугать-то некого было — дождь, скука, никто не летает.
От пугала уже видно было Каму. Она стояла совершенно неподвижно, гладкая и блестящая. «Кама! — крикнула Вика. — Камочка, мы тебе хлеб несем!». Кама повернула к нам свою милую умную морду.
Я смотрела, как осторожно подходит девочка к лошади, осторожно протягивает ей хлеб, а Кама осторожно берет его губами.
(Было с этой Камой дело — за неделю до того она чуть не откусила Вике палец. Все удивлялись — Кама? Такая смирная, добрая… Одной рукой давая Каме сахар, другой Вика гладила ее по холке, задела, видно, ненароком накусанное оводами место — вот и все. Посердилась на нее тогда Вика дня два, здорово посердилась, а потом простила. Лошадь ведь, что с нее взять, хоть и умная.)
На этот раз все обошлось благополучно, и мы двинулись дальше.
И вот — лес, сумрачный, тихий, мокрый, теплый… Но только мы собрались посмотреть в одном заветном месте лисички — как хлынул дождь, теперь уже нешуточный. Стали держать совет — идти в «наш» лес, а это столько же, сколько обратно до дома, — вымокнем, как цуцики. Но повернуть обратно — после стольких сборов и разговоров… Решили так: вымокнуть, как цуцики, но идти вперед!
У трех осклизлых жердей, проложенных через маленькое болотце, нас, как всегда, ждали лягушечьи дети. После жердей была маленькая полянка, где нас всегда ждали подосиновики. Но на этот раз никто нас там не ждал. Дурной знак, решили мы, но все же двинулись дальше. Поднялись на взгорочек, спустились — и бегом к трем елочкам. Там стоял невероятно красивый подосиновичек-челыш. Хороший знак, решили мы, торжественно положили его в Викин мешочек и пошли по Масляной дороге.
Слева — мокрое болотце, отгороженное от дороги осинками, елками и прочим добром. Там клюква. Справа — сухое болотце, правда, сейчас и оно мокрое. Там — голубика, черника и дурман, о котором Вика наслышана была всяких ужасных историй, и потому, несмотря на всю ее любовь к голубике, мы никогда в этом сухом болотце долго не задерживались. А сейчас и вовсе не стали туда спускаться. Были дела поважнее. «Как ты думаешь, есть там наш масленыш?» — спросила Вика. «Одно из двух — или есть, или нет». — «А может, из трех?» — «Может, и из трех». — «А может, из тридцати трех?»
Масленок был на своем всегдашнем месте. Но то был червивый масленок. Дурной знак, решили мы и зашагали дальше по нашей Масляной дороге.
…Мы окрестили ее так три года назад, в свой первый приезд в Аэгвийду. Когда мы впервые забрели сюда, на эту дорогу, она вся сплошь, от горизонта до горизонта, была усеяна маслятами. Что было! А теперь мы собирали там пять-шесть, если сильно повезет — десяток масляток. Но дорога все равно оставалась Масляной.
Дождь не только не собирался проходить, но, наоборот, все больше входил во вкус. Но это не имело уже ровно никакого значения — все, что могло на нас промокнуть, уже промокло, терять нам было нечего, и мы упрямо продвигались вперед, к самому новому из наших владений — лесочку, недавно открытому нами за тем хмурым поворотом дороги, у которого раньше мы всегда поворачивали назад.
…Но однажды мы решились таки заглянуть за поворот, и сразу за ним пошли по сторонам яркие юные сосенки, дорога стала подниматься вверх, и, дойдя до этого верха, мы остолбенели. Светило солнце, и внизу расстилалась поляна ярчайше зеленого, ликующего цвета, а на ней стоял старый деревянный дом без крыши.
Мы спустились к нему, заглянули внутрь. В доме было тихо, пусто, мрачно. Возле него на земле валялась какая-то огромная кость, наверное, лошадиная, решили мы. Вот аккуратно сложенная поленница дров. Вика дотронулась до одного полена — оно рассыпалось. Почерневшие опилки, сплющенное ржавое ведро. Что тут было, кто тут рождался, и плакал, и смеялся, и умирал? Подумали мы, подумали, ничего, конечно, не надумали, и пошли открывать новый лес. А там — чего только там не росло!
Но сейчас солнца не было, и сосенки стояли тихие и понурые, и когда мы вошли в «наш» лес — мы не узнали его, такой он был грустный и темный. Сразу стало как-то холодно, неуютно, сердито заболботала в сапогах вода… Кинулись под одно заветное дерево — никого, под другое — тоже никого, даже под старой мрачной елью, которая еще ни разу нас не подводила, не нашли мы ни одного гриба. Стало совсем как-то мокро, холодно и грустно.
Я достала яблоко, разрезала его пополам. «Мама ты мама! Глупая ты моя мама! Это все ты виновата!». Вика глядела на ножик в моей руке. Ну конечно, это все я, растяпа, виновата! Ведь прекрасно знаю, что если все время держать нож наготове, ни один гриб не высунет носа. А я, как смотрела того масленыша в начале Масляной дороги, так и держала нож в мокрой руке. Закрыла я нож и для большей убедительности спрятала в карман.
Пошли шарить дальше. Опять ничего. Значит, не в ноже дело. Бедные мы, бедные, мокрые, холодные, голодные, да еще и без грибов! А тут еще Вика стала бубнить, что зря мы пошли, что лучше бы мы сейчас спали, и молоко совсем невкусное было, и выпила она его, только чтобы я не ругалась, и никогда она больше не пойдет в этот проклятый лес, и не нужны ей никакие грибы. «Вот так, мамочка!»
«Знаешь что, — сказала я на это, — перестань-ка бубнить, давай лучше попугаем грибы!». «Ой, правда, — оживилась Вика, — как это мы забыли!»
Обычно это помогало — покричать подосиновикам, подберезовикам, лисичкам, сыроежкам там всяким, что вовсе они нам ни к чему, что вовсе не из-за них мы в лес пришли, а просто погулять, а мешки у нас для ягод, а ножик — на всякий случай, так, для гриба-несмышленыша, который сам под ноги лезет.
Покричали. Правда, без особого энтузиазма. Тоже не помогло. Что же делать, как нам быть? Идти домой? Но дорога далека, совсем уж мокро и холодно будет, да с пустыми-то руками… Съели по печенине, еще по половинке яблока.
«Ну, все, мамочка! Ты как хочешь, а я пошла домой!». Совсем мой ребенок расстроился — съежился, сгорбился, мордаха бледная, мокрая, несчастная, злая. «Что же делать, пошли, раз такое невезение!» — сказала я.
Решили срезать путь, пойти наискосок. И только я сделала шаг… «Мама! Куда ж ты смотришь! Гляди, кого ты чуть не раздавила!». У самого носка моего сапога стоял блестящий, совершенно юный и даже еще белый подберезовичек! «А вон еще!» — сказала я. «И еще!» — сказала Вика. И пошло-поехало! «Мама, дай скорее ножик!» — «Подожди, сейчас вот только срежу… И еще один, пока вижу!» «Ой, мамочка, давай скорее, я еще два приметила!»
Короче говоря, когда у нас набрался сорок один подберезовик, мне пришлось применить всю силу родительской власти, чтобы уволочь моего грибника из леса. Дождь уже совсем распоясался, с плащей на брюки стекали реки и ручьи, в сапогах плескались озера разливанные, и с лица текло прямо в рот.
Молча шли мы по Масляной дороге. «Хорошо бы бабушка Ида затопила плиту!» — вдруг сказала Вика. — «И в самом деле, хорошо бы!». Всю оставшуюся дорогу мы только и думали да гадали — затопит бабушка Ида плиту или не затопит. Даже на Каму забыли посмотреть.
Из окон дома, что за полем, на нас удивленно таращились наши знакомые белоголовики, вдавив носы в стекло. Мы помахали им и пошли дальше. Прошли песчаную дорогу, миновали мостик, свернули вправо раз, свернули вправо два, прошли клуб, парикмахерскую (Juksuur), магазинчик на углу (Toidukaubad)… и — что за терем-теремок, из трубы идет дымок? Из трубы шел дым. Бабушка Ида затопила плиту.
Мы вошли в дом. В плите гудело и трещало, вкусно пахло картошкой, громко плевался чайник, и бабушка Ида стояла, опершись на палку, и ласково улыбалась нам. «Тере!» — сказали мы. «Тере, тере! — сказала бабушка Ида. — Ню-у-у, как грыбы? Ой-ой-ой!» Это уже о нас. Я кинулась стаскивать с Вики одежку, завернула в махровое полотенце, растерла под визги и смех («Ой, ой, мамочка, ой, не могу, не щекочись!»), дала переодеться, переоделась сама…
…До отъезда оставалось два дня. Вика спала. Бабушка Ида сидела в кухне и читала Библию. Я вышла к ней. Она взглянула на меня, сняла очки и вдруг заплакала. «Что вы, бабушка?» — спросила я, заранее волнуясь от того, что не смогу ни помочь, ни утешить: объяснялись мы, русская и эстонка, чуть ли не на пальцах. «Я пла-ачу!..» — «Ну что вы, зачем же, не надо…» — «Да, ты уехаль — и всё… Ты такая арошая, тоб-брая… И Вик-ка. Я пла-ачу…» — «Не надо плакать, на следующий год мы опять приедем!» — «Нет, не-етт, я зна-аю!.. Я буду плакатть». — «Когда у вас день рождения, бабушка?» — «Семнадцатый сентябрь, восемь десятть летт». — «Мы с Викой вас поздравим, а Елизавета Ивановна вам прочтет наше письмецо…» — «Я-а, Лиза, я-а, я-а…».
…Через два дня мы уезжали. Опять шел мелкий дождик. Соседка, Елизавета Ивановна, провожала нас на станцию. Старая Ида стояла в дверях, тяжело опершись на палку, и плакала, плакала, и утирала слезы чистеньким своим передником. Она и вся была чистая, светлая, и я до сих пор отчетливо вижу белоснежный ореол волос ее над прямым белым лбом.
Старая Ида знала, о чем плакала. К 17 сентября мы действительно написали ей письмецо. С Новым годом собирались поздравить, да так и не собрались. А вскоре после Нового года узнали, что, выйдя однажды из дому, бабушка Ида поскользнулась, упала и сломала обе свои больные ноги. Увезли ее в больницу, и оттуда она не вернулась.
А вскоре не стало и девочки Вики. Не в «восемь десятть», а в десять лет. Где-то там, в неведомом далеке, они вместе сейчас, но одна не знает эстонского, другая — русского. «Тере, тере, Вик-ка!» — говорит, наверное, старая Ида, встречаясь с моей Девочкой. «Тере, бабушка Ида!» — говорит, наверное, Вика…
Вот и всё.
30. 03.73
Ну вот, Витулик, наконец-то мы можем с тобой поговорить. Мои соседки по палате ушли в кино. Они хорошие, но я привыкла говорить с тобой наедине.
Я в Сочи, в санатории. После того, что случилось с тобой, я совсем дошла до ручки — устала предельно, и мои друзья отправили меня сюда отдохнуть. Ах, Вика, Вика, если бы я могла рассказать тебе сейчас, зачем нужны друзья, почему человек не должен оставаться один! Если бы я нашла нужные слова, чтобы объяснить тебе это, пять месяцев назад, я бы сейчас не была здесь, а сидели бы мы с тобой на кресле и смотрели на толстого глупого вуалехвоста и драчливую гурамиху… Сегодня к тебе должна была поехать тетя Т. Я знаю, раз она обещала — поедет. А я вот тут.
Пошла в церковь, но я не умею молиться, и я знаю, что ты первая засмеяла бы меня, если бы я поставила свечку за упокой твоей души. Постояла, посмотрела на иконы, на молящихся, поглотала горький ком в горле — и пошла.
Мне, Витулик, Сочи мало идет на пользу: никак не могу забыть, почему я здесь. Уезжая из Коктебеля осенью, я думала, что теперь нескоро увижу море. А случилось так, что и полгода не прошло. И потому не нужно оно мне. Красивое, холодное и никчемное. Как не нужна и зелень субтропиков, а уж тем более — бензиновый воздух Сочи.
Мне враждебен Сочи и потому, что здесь на каждом шагу красивые шоколадки, которые я всегда привозила тебе из Москвы, большие конфеты «Гулливер», которые привозила тебе из Харькова. Все это больше некому привозить. Рядом с санаторием — автодром, где целыми днями катаются на каруселях счастливые дети: у них каникулы.
Во всем санатории была одна-единственная женщина с ребенком, и я попала именно в эту палату. Девочка Лена, 14 лет. С теми же увлечениями, что были у тебя: жуки, шишки, цветы, самоделки… Такие вот дела.
Чувствую, что вернусь в Ленинград почти такой же, какой уехала. Если не считать, что загорела и несколько окрепла физически. А вот мозг мой — беда моя. Все такой же больной и усталый. Как я буду работать — не представляю.
Прочла у Вересаева о том, как одна женщина вот так же неожиданно потеряла девочку и несколько дней не спала, не ела, не плакала — смотрела в одну точку. Обратились за советом к знакомому врачу. Тот прислал строгую записку: «Как вам не стыдно бездельничать, в госпитале столько дел!». И она три месяца ухаживала за ранеными, колола, пилила дрова, стирала и т. д. Отпустил ее доктор ожившую, возродившуюся. А мне вот пришлось заниматься тоже напряженной, но умственной работой, которая оказалась очень плохим лекарством.
Вот такие, Витулик, дела. Уже пять месяцев прошло… Для меня это — единый-неделимый отрезок времени, гораздо меньший, чем пять месяцев, и в то же время неизмеримо огромный. Выброшены на свалку все предыдущие годы, а новая жизнь не начата…